Объединенный институт ядерных исследований

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК Электронная версия с 1997 года |
Газета основана в ноябре 1957 года
| |
В лабораториях Института
Наука - дело коллективное
Александр Иванович Куклин, начальник группы ЮМО Научно-экспериментального отдела нейтронных исследований конденсированных сред ЛНФ, недавно отметил 65-летие. После окончания физфака МГУ он поступил на работу в ЛНФ и уже более половины своей жизни работает в лаборатории. Но рассказывает он не о себе, а об установке ЮМО, коллегах и исследованиях.

Начало
- Спектрометр ЮМО (назван в честь Ю.М.Останевича в 1990-х годах) на базовой установке (сначала ИБР-30, а затем и реактор ИБР-2) не был самым первым малоугловым инструментом в мире, но в каком-то смысле все-таки был первым, - начал рассказ Александр Иванович. - Первым в применении времяпролетной методики, которая позволяет на двухмегаваттном реакторе получать результаты, сравнимые с результатами с 20-30 мегаваттных нейтронных источников. По ряду параметров ЮМО сравнима с установками Института Лауэ - Ланжевена (Франция).
 |
| Последний приезд Ласло Чера в Дубну |
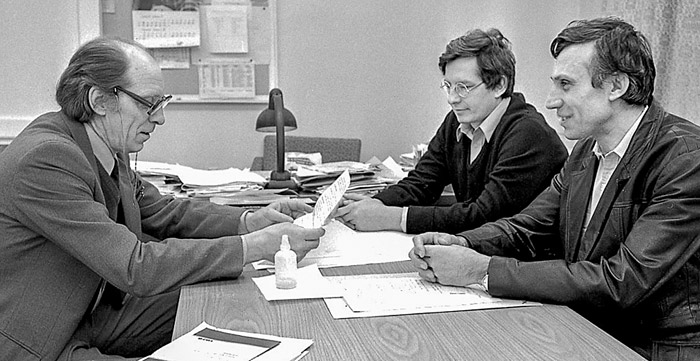
Ю.М.Останевич обсуждает статью с А.Б.Кунченко и Д.Светогорским
Не бывает так, чтобы один человек определил развитие научного направления, это часто вклад многих людей. Так, профессор Лев Сергеевич Ягужинский, биохимик, недавно отметивший свое 90-летие, сделал очень много для становления нашей установки - в методическом плане и привнесении биологического направления в исследования. Лев Сергеевич помогал в том аспекте, который сложен для понимания физиков, такая совместная работа очень продуктивна. Он часто повторяет: я всегда рад той радостью, которую дают занятия наукой.
Наверное, самым выдающимся нашим коллегой остается Валентин Иванович Горделий. Он очень много сделал и для лаборатории, и для нашей установки, и для нас лично. Поддерживал в трудные времена, благодаря ему некоторые из нас остались работать в ЛНФ.
"Пассионарная личность, - присоединяется к разговору Ахмед Хусаинович Исламов, долгие годы создававший установку и отвечавший за нее вместе с А.И.Куклиным. - Вадим Черезов был его учеником. Л.С.Ягужинский - выдающаяся личность, подготовил более 50 кандидатов наук. В 90 лет у него душа и энтузиазм как у молодого, он всегда говорит о радости и любви".
- Это он совершенно правильно говорит, - продолжает Александр Иванович, - без эмоционального накала в науке сложно что-то сделать. Человек идет на довольно большие лишения, и должен что-то получить взамен, и получает - радость от достигнутого результата. Это нечасто случается. Надо добавить об Ахмеде - он в нашей группе с конца 1990-х, работал на ведущих позициях, большой специалист в мембранной тематике.
ЮМО, другие установки и люди
Наш инструмент - это инструмент home made. У него не такой красивый внешний вид, над ним не работали дизайнеры, как в западных разработках. При нашем финансировании нанимать дизайнеров мы не можем. Установка работает и дает результаты, которые не только сравнимы, но часто и превосходят так называемый мировой уровень. А любая установка - это, прежде всего, конкретные люди, с их конкретными действиями и предложениями. Например, у нас долгое время работал Вадим Геннадьевич Черезов. В начале 2000-х он, еще молодым сотрудником, уехал за границу и проявил себя там ярким ученым. Он мог бы номинироваться на Нобелевскую премию, но, я думаю, помешали ограничения на число номинантов. Я знаю, что ключевую точку в той работе поставил именно Вадим.
У нас есть магнитная установка, которую мы получили благодаря деятельности сотрудницы из Румынии Марии Балашою. Она сейчас работает в другой группе отдела, но это не мешает нашему научному взаимодействию. Исследования материалов в магнитном поле - это одно из направлений, в котором мы планируем развиваться.
Мы тесно сотрудничаем с МФТИ. Там есть уникальная установка - спектрометр Rigaku. Фактически, это "три в одном" - малоугловой рентгеновский инструмент плюс белковая дифракционная установка и, потенциально, установка для рефлектометрии. Малоугловой рентгеновский спектрометр появился и в ЛНФ, и наличие людей, способных проводить эксперименты на нем, безусловно, открывает для нас возможности комплементарных исследований с нейтронами. Кроме того, в МФТИ имеется так называемый наноскоп - установка, позволяющая "видеть" размеры меньше половины длины волны. Там же находится криоэлектронный микроскоп с технологией заморозки биологических объектов, полимеров и других объектов. Кроме того, там множество линий, где можно заниматься молекулярной биологией и экспрессировать белки.
...и немного о себе
Я пришел в ЛНФ в марте 1988 года, сразу после окончания кафедры атомного ядра физфака МГУ. Кстати, Ю.М.Останевич читал нам курс. Передо мной стоял выбор - Троицк или Дубна. Я пришел в ЛНФ, меня встретили Андрей Музычка и Николай Иванович Горский. Николай Иванович меня спросил, какую кафедру я окончил. "Как так, атомное ядро, мы другими вещами занимаемся!" У Юрия Мечиславовича была трубка, которой он любил постукивать, как будто выбивал табак. И вот он стучит трубкой: "Понимаете, Коля, физфак дает образование, а специальность мы даем". Юрий Мечиславович ушел из жизни очень рано, в 56 лет. Сейчас я прекрасно понимаю, какого масштаба это была личность. Молодым человеком я этого не ощущал. Мне кажется, в научном отношении у Ю.М.Останевича была хорошая основа, чтобы получить значительные результаты. У меня же с ним вышла всего одна научная работа, хотя, по сути, должны были быть две-три. Работа была опубликована в Annual Report за 1991 год, и дорога мне не только тем, что это первая моя научная работа. Я помню, как мы ее обсуждали с Юрием Мечиславовичем, какие результаты казались нам интересными, намечали возможное продолжение исследований.
Если вспоминать людей, которые оказали на меня большое влияние, то это уже упомянутый Николай Иванович Горский. Он был неутомим в своих исследованиях, всегда радовался, когда начинался эксперимент. А когда у нас идут эксперименты, и реактор работает - это очень активное время, сбивается режим жизни - работаем то днем, то ночью. Хотя установка автоматизирована, но образцы нужно менять, необходимо обрабатывать результаты, внимательно писать файл задания. Это требует определенной сосредоточенности и сил.
Мы расстраиваемся, когда, невзирая на работу реактора, назначаются какие-то дополнительные совещания, еще что-то. С тем, как дисциплинирует реактор, ничто не сравнится. Ты это делаешь по своей воле, то есть на первом месте - самоконтроль. И следим за тем, чтобы время эксперимента не использовалось напрасно, и бываем очень раздосадованы, когда происходят потери по совершенно необязательной причине.
О группе
Группа у нас большая, и три сотрудника - ответственные за установку. Иногда это вызывает вопросы, но мы не выдумываем ничего нового, есть мировой опыт. В мире довольно много малоугловых установок. На реакторах, как правило, есть не одна такая установка, а две или три. Это означает широкий спектр исследований, проводимых на них: от цементов и порошков, синтетических материалов, полимеров и заканчивая биологией. Что можно получить? Структуру. Но чаще всего структура связана со свойствами, а, зная свойства, можно что-то предсказывать. Но, как мы с Ахмедом Хусаиновичем говорим, важно не заниматься материаловедением, то есть изучением конкретного материала, а обобщением свойств, для чего надо много знать и уметь, и иметь возможности для измерения не только на одной установке. Другое дело, что интерпретация всегда сложна, часто она не может быть однозначной. Для того чтобы однажды получились результаты уровня Нобелевской премии, в узком направлении работают даже не сотни, а тысячи людей. Как говорил Н.И.Горский, ОИЯИ себя бы оправдал, если бы у нас появился хотя бы один Нобелевский лауреат. Это важно, но исследования ЛЯР - тоже нобелевского уровня, Байкальский проект и другие дела ЛЯП, работы ЛТФ - очень высокого уровня. Эти конкретные работы, конкретные факты ложатся в копилку будущего перехода на более высокий качественный уровень. У нас в ЛНФ это реактор и проводимые исследования с конденсированными средами. И это, безусловно, мировой уровень.
Если говорить про молодежь, то у нас работают Александр Иваньков и Татьяна Муругова - успешные кандидаты наук, уже зрелые ученые. Ахмед Эльмекави из Египта работает в должности постдока, защитился несколько лет назад и работает над продолжением диссертации Асиф Набиев из Азербайджана. Совсем недавно состоялась блестящая защита Сергея Куракина под руководством Норберта Кучерки. Молодежи много, фактически все со степенями. У нас в группе есть еще молодежь из МФТИ, прежде всего кандидаты наук Алексей Власов и Юрий Рижиков. Они работают по совместительству, но это очень большое подспорье в работе. Они приезжают, мы общаемся, происходит тесное взаимодействие по науке. Приезжают в любой момент, когда нам нужна какая-то помощь. Они привносят в нашу работу совершенно другой уровень сопровождения экспериментов. И мы их чему-то учим, то есть происходит взаимное обогащение.
Наши пользователи
Одно из современных достижений - синтетические материалы дендримеры, с которыми связана история нашего плодотворного сотрудничества с академиками А.Н.Озериным и А.М.Музафаровым из Института синтетических и полимерных материалов имени Ениколопова. И эту тему активно развивал наш сотрудник Андрей Вячеславович Рогачев. Сейчас он возглавляет физтех-школу имени Ландау в МФТИ. Современная наука, в первую очередь, дело коллективное, особенно в экспериментальной области, поскольку в редком направлении ты можешь единолично и образец подготовить, измерения провести, и грамотно их обработать. Чем дендримеры интересны? Регулируемым синтезом. Мы исследовали силоксановые полимеры. Их можно наращивать слой за слоем. Здесь счастливо сошлись по размерам результаты, которые были получены на рентгене и на нейтронах. А научная проблематика у дендримеров очень интересная. Интересно узнать, например, происходит ли предельное достижение размера? Каждый следующий наращиваемый слой дендримера плотнее предыдущего, и, поэтому, возникает вопрос: есть ли этому физический предел? Интуитивно понятно. Мы смотрели даже десятую генерацию, это сложно приготовить, но предела мы не смогли увидеть.
Хочу отметить одну группу пользователей - команду Алексея Рэмовича Хохлова из МГУ. Он, безусловно, выдающийся ученый, академик, известный своими работами с 1980-х. Последнее время они занимаются умными гелями и, в целом, умными полимерами. Мы решаем для них структурные задачи и работаем в этом направлении. Это не так просто, как кажется. Надо грамотно убрать всё некогерентное рассеяние, всё рассеяние, возникающее от взаимодействия с частями установки, фон, ну а дальше всё зависит от того, какие будут образцы.
В реальности эксперимент проводят люди, ответственные за спектрометр (конкретную нейтронную установку), но без участия пользователей тяжело: часто даже при заполнении образца что-то происходит, и ты не знаешь, что делать. Многое зависит от приготовления, консистенции, изменения температуры, конечно, можно и нужно общаться по удаленной связи. Но, как правило, получившие время на установке могут приехать и поучаствовать в измерениях. Конечно, одно перечисление пользователей реактора заняло бы не одну полосу в газете, поэтому остается за скобками. Отмечу лишь экспериментаторов из Словакии, первым был Павел Балгави, затем Даниэла Угрикова, Яна Галова, Норберт Кучерка.
Когда-то мы занимались трековыми мембранами. Проводили измерения, используя кольцевые детекторы на нашем спектрометре. Потом мы активно взаимодействовали с Жераром Пепи как на нейтронных источниках, так и синхротроне во Франции. Ж.Пепи очень хороший ученый, он активно работал, даже находясь уже в солидном возрасте. Он очень хотел написать программу для нашего позиционно-чувствительного детектора нового типа.
И - о погоде
Во время ковида все сидели по домам, кстати, тогда же резко выросло число публикаций, но ощущался дефицит общения. А личное общение не заменить телефоном и интернетом, ведь мы разговариваем не только словами, но и жестами, языком тела, которые иногда говорят больше слов. Поэтому нужны институты, коллективы, где люди умеют работать. Самое важное - климат в коллективе, взаимодействие с людьми. Должен ли быть дух состязательности? Наверное, да, но, это не капиталистическая конкуренция, а скорее социалистическое соревнование. Как говорит Валентин Иванович Горделий, наука широка, всем места хватит.
Недавно реактор ИБР-2 снова заработал, а до этого у нас был довольно длительный перерыв, когда реактор остановили, и это было грустное время, особенно для молодежи. Морально это тяжело, физически, конечно, легче - нет обязательных смен. К тому же есть другие инструменты в мире, мы сами становимся пользователями, ездим на измерения. И здесь нам очень пригодилась связь с Центром исследования молекулярных механизмов старения МФТИ, который организовал В.И.Горделий. И даже когда реактор работал, мы регулярно, 3-4 раза в год, ездили на синхротроны в ESRF и ИЛЛ (Гренобль, Франция), DESY (Германия). Сейчас мы проводим эксперименты на китайском Синхротронном источнике в Шанхае. У нас много публикаций по результатам, полученным на этих установках.
Если бы не было собственных научных направлений, то, наверное, было бы скучно в такие длительные перерывы, с другой стороны, мы поддерживали связи с пользователями и выполнили довольно много их задач. Несмотря на то что в последнее время спектрометр существенно модернизировали, идеи, заложенные вначале создания установки и реализованные за десятилетия ее эксплуатации, работают до сих пор на физику, химию, молекулярную биологию и биофизику, материаловедение. Внимание к нашей группе, к нашим измерениям на нейтронах довольно большое. Если есть коллектив и понимание, куда двигаться, то это здорово!
Ольга ТАРАНТИНА,
фото Александра КУРЯТНИКОВА, Елены ПУЗЫНИНОЙ